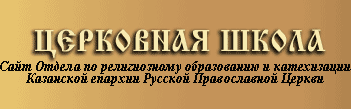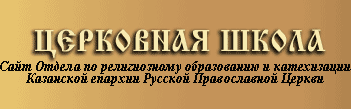ЧЕМУ УЧИТ ВСТРЕЧА С ГРЕЧЕСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ
Пребывание в Греции чрезвычайно поучительно. Знакомясь с греческой жизнью и, в особенности, с греческой церковью, все время узнаешь в них те первоосновы, из которых соткана наша собственная культура — как светская, так и церковная; все время ощущаешь себя на духовной родине, узнаешь в греческой жизни собственное прошлое. И вместе с тем видишь, что все эти первореальности покрыты слоем глубокого провинциализма, требующего не малых усилий, чтобы отделить вечное от временного, важное от случайного, великое от посредственного. Впечатления греческой жизни разнообразны и противоречивы. Я постараюсь сначала кратко формулировать те мысли, которые возникли у меня в итоге всех очарований, и разочарований; а затем постараюсь обосновать их рядом соображений и примеров.
Итак: встреча и знакомство с греческой церковью учит:
1) отличать вечное Православие — как видение умной красоты, как правильное стояние перед Богом — от национальной исторической церковной действительности, и не соблазняться недостатками последней,
2) более глубоко ценить русское Православие н лучше осознавать те ценности, которые внес в сокровищницу Церкви русский народ,
3) понимать и любить наше эмигрантское Православие, как особую задачу, посланную нам Богом, и как особый стиль религиозной жизни, обусловленной исповеданием Православия среди народов Западной Европы,
4) осознать беспомощность современного Православия перед лицом неизбежно надвигающегося на него процесса секуляризации и необходимость объединения всех борющихся с ним сил, как путем общения с христианами других исповеданий, так и путем образования западного Православия, для которого секуляризм не является мало известным внешним врагом, но внутренней опасностью собственной жизни.
Первое, что я ощутил, приехав в Грецию, была радость: радость быть в православной стране, в каждом встречном видеть православного человека, не составлять исключения, быть как все. Эта радость означала освобождение: в эмиграции мы так привыкли чувствовать себя иными, особенными, что невольно несем свое православие как полный сосуд, боясь его расплескать или уронить. Это создает комплекс превосходства, и одновременно приниженности (оба эти комплекса так связаны между собою, что где есть один, надо непременно искать другого). В Париже перекреститься, проезжая мимо церкви, или садясь за стол в ресторане — это почти что акт исповедничества. Оглядка на окружающих почти неизбежна; и в этой оглядке можно прочесть: «смотрите, я не такой, как все, не такой, как вы»; или же обратное: «не ставьте мне в вину моего чудачества»... А здесь крестятся если не все, то очень многие, и ты ничем от них не отличаешься. И это растворение в массе, это единомыслие с массой равняет тебя со всеми, ставит на свое место. Не об этом ли писал Пеги, когда говорил о той радости, которую испытывает интеллигент литератор, когда теряется в великой безымянности народа (quand il еntrе dans le grand anonymat du peuple).
Однако скоро начинаешь видеть и оборотную сторону этих отношений. В религиозности масс, в государственной церкви находит себе место не только благочестие народа, но и «идея, попавшая на улицу» (Достоевский). Начинают бросаться в глаза религиозная небрежность, запанибратство со святыней, обрядоверие... вообще быт, часто лишенный своих христианских корней и превратившийся в целую систему более или менее обязательных привычек.
Соблазн критики очень силен. Под его влиянием мы начинаем обращать внимание и на то, что епископы являются скорее церковными сановниками, чем добрыми пастырями, что большая часть духовенства ограничивается исполнением треб, что монашество является умирающим пережитком прошлого... Однако критиковать греческую церковную жизнь не входит в мою задачу (я, к тому же, слишком мало ее знаю). Мне скорее хотелось бы отметить те положительные и единственные в своем роде черты, за которые греческое Православие нельзя не любить.
Это, во-первых, его ни с чем не сравнимая аутентичность. Православие в Греции — у себя дома; оно не было сюда принесено, не было проповедано, как некая чужая, переведенная с другого языка, мудрость; оно здесь возникло; оно здесь — на своей родине- Мы сознательно говорим о Православии — как об определенном понимании и воплощении христианства — а не о евангельском благовестии, которое и в Грецию было принесено из Святой Земли. Но, говоря о Православии, и в частности о греческом Православии, мы имеем в виду не только Вселенские Соборы и Отцов Церкви, но и Коринф и Филиппы, Эфес и Патмос. В этих священных именах Греция непосредственно соприкасается с Первохристианством, вытекает из него. Эта аутентичность Православия чувствуется во всем: в языке, который сохранил непосредственное жизненное значение за словами, которые в других языках получили нарочито священное значение (потир — стакан; трапеза — стол; евхаристия — благодарность; исихия — тишина); в обычаях, ставших у других народов привилегией духовенства, а у греков сохранившихся общераспространенными (каждение часовен и жилых домов женщинами)... Когда в праздник первоверховных апостолов во время вечерни (которая в Афинах служится в этот день на ареопаге), читается проповедь апостола Павла, обращенная к афинянам, то наиболее сильным впечатлением этой службы является то, что в ней все подлинно: те же слова Апостола, произносимые на том же языке и, вероятно, с того же места... и — что остается вне всякого сомнения — обращенные к тем же афинянам: любопытным, легкомысленным, насмешливым, но вежливым и в общем благожелательным...*). В смысле подлинности и аутентичности выше Греции стоит только Святая Земля, подобно тому, как в отношении духовного аристократизма греков превосходят только евреи.
*) Описывая «неудачу» ап. Павла среди афинян, комментаторы часто бывают несправедливы в отношении этого народа. Текст Деяний ясно говорит о трех категориях среди слушателей ап. Павла: «одни насмехались, а другие говорили: «об этом послушаем тебя в другое время (смысл этих слов можно толковать различно, но ясно, что это не насмешка; иначе автор не противоположил бы их тем, которые «насмехались»). Наконец третьи: «некоторые мужи, пристав к нему, уверовали». (Деян. 17, 32-34).
Аутентичности форм церковной жизни соответствует глубокая религиозность греческого народа. Конечно, и у греков много обрядоверия, много внешнего и поверхностного; но за этими внешними формами чувствуется подлинная вера и глубокое благочестие. Не знаю, есть ли вообще в мире другая страна, в которой вечное и временное, священное и практически обыденное переплетались бы так тесно, как в Греции. Достаточно простоять одну церковную службу, чтобы в этом наглядно убедиться. С одной стороны невероятная небрежность как духовенства, так и народа, болтовня кумушек женского и мужского пола... но во время евхаристического канона все замолкает, молящиеся выходят из своих стасидий, многие становятся на колени, молитвенное напряжение (и какое!) охватывает всю церковь. Проповедь слушают внимательно (а проповеди бывают длинные — все греки красноречивы!); зато тотчас по окончании службы начинается базар.
Войдите в любую церковь вне службы; вы увидите то же фамильярное отношение к святыне; а с другой стороны: кто-то заботится о том, чтобы пред иконами всегда горели свечи, кто-то по вечерам зажигает лампадки на могилках кладбищ. И кажется, что эти огоньки, горящие всю ночь в пустых церквах, предстоят Богу не только за тех, кто их зажигает, но и за тех, кто о них и не думает и не помнит...
Побывавши в Греции, нельзя не полюбить греческого Православия, но нельзя и не возмущаться темными сторонами греческой церковной жизни. Но первое предстоит Богу и принадлежит вечности, а все греховное — вся та солома и сено, из которых мы думаем строить Царство Божие (1 Кор. 3, 12) — сгорит без остатка в огне суда и гнева. Греция — страна не только контрастов, но и чрезвычайной интенсивности: здесь все — и в природе и в жизни людей — доведено до крайностей.
Вот почему встреча с греческой Церковью учит нас отличать вечное Православие от его исторических воплощений и не соблазняться темными сторонами этих последних.
_________
После первых очарований и восторгов в нас просыпается «тоска по родине». Как ни хорошо греческое Православие, чего-то в нем нет; и именно того, к чему привыкла, что любит и чего жаждет русская душа. Тема эта очень деликатна; ибо вопрос идет не об осуждении — даже не о предпочтении, а о тех индивидуальных чертах, которыми один образ красоты отличается от другого. А мы обыкновенно мыслим «исключительно» и если одобряем чтобы то ни было, то непременно осуждаем противоположное. Но «Иисус Христос не был, да и нет, но в Нем да... и аминь было во славу Божию через нас» (2 Кор. 1, 19). Поэтому в религиозной области утверждения и даже предпочтение своего не должно означать отрицания и осуждения чужого. В этой области вообще не уместны оценки; достаточно видеть духовные и душевные реальности, правильно их понимать и формулировать...
В субботние вечера в сознании невольно звучит мелодия и слова, пусть несколько сентиментальной, но психологически верной (потому что соответствующей определенному чувству и настроению) песни (слова И. С. Аксакова, музыка М. Р. Щиглова).
«Приди ты немощный, приди ты радостный,
Звонят ко всенощной — молитве благостной
И звон смиряющий всем в душу просится
Окрест взывающий в полях разносится».
Этого именно в Греции нет. Греческая практика не знает «всенощной». Испиринос — вечерня служится в 4 или в 5 часов (и продолжается час, потому что вычитываются все стихиры; но Свете тихий не поется, а читается!). А ортрос — утреня непосредственно предшествует литургии (причем часы не читаются совсем, а возглас «благословенно Царство» непосредственно следует за Великим Славословием). Нельзя не признать естественным и логичным порядок, при котором вечерня служится вечером, а утреня утром*); а всенощной все-таки не хватает!..
Не хватает нам и «вечернего звона». Греческие колокола не имеют ни той задумчивости, ни той своеобразной поэзии, которой отличался русский благовест. Звон здесь не самостоятельное искусство**), а скорее звуковой сигнал: «пора идти в церковь, служба началась».
*) Нам говорили, что вечерня соединяется с утреней в одно богослужение в церквах Ионических островов.
**) Московский специалист по колокольному звону И. В. Смагин знал наизусть тысячу колокольных ладов или мелодий.
Но нигде тоска по русскому Православию не достигает такой остроты, как в основной звуковой стихии Православия — в церковном пении. Византийское одноголосное пение является, по-видимому, наиболее недоступной для посторонних влияний твердыней греческого Православия. В других областях церковного искусства — в иконописи, архитектуре — мы встречаем очень далеко идущие, часто совершенно недопустимые компромиссы. Западные мотивы частью врываются и сливаются с восточными, частью их просто вытесняют. Но в области пения греки твердо держатся установленных образцов, которые для нас являются чуждыми и мало приемлемыми. Чуждой при этом является не мелодия и не гармонизация, а сама звуковая структура их песни, его гамма. Наше ухо не улавливает (а когда ухо улавливает, то душа не принимает) тех неожиданных переходов, тех непонятных повышений и понижений, из которых соткана однообразная и бесконечно растягивающаяся звуковая нить. Особенно остро чувствуется это, когда поет один голос; греческие певцы (в особенности в провинциальных церквах) поют с энтузиазмом, с упоением, вкладывая в свое пение не только всю свою душу, но и всю силу своего голоса. В результате получается нечто такое, что можно воспринимать только при многолетней привычке. Иногда эти звуковые эффекты смягчаются; так мы присутствовали при чудесных службах в маленьком женском монастыре «Евангелизмос» на острове Патмосе (всего десять монахинь, малюсенькая церковь, в которой помещается человек пять; остальные стоят в садике, окружающем церковь). Скромное, не громкое, не торопливое и исполненное какого-то внутреннего трепета пение двух чередующихся женских голосов настолько смягчало византийский лад, что ничто не мешало нам чувствовать внутреннее единство этого пения, служения, своеобразной архитектуры белой церковки, окруженной соснами и кипарисами и величавой простоты окружающей природы...
Мы знаем, что за этими неприемлемыми для нашего уха звуками стоит большая культура и сложнейшая музыкальная школа. Достаточно взглянуть на страницы толстых нотных сборников, изданных профессором Требелласом, покрытых совершенно непонятными нам знаками, внешне напоминающими арабское или индуистское или грузинское письмо; достаточно увидеть с каким искусством и терпением эти завитки и узоры переписываются, вернее, вырисовываются студентами богословами... Нам кажется, что они однообразно тянут одну и ту же ноту, то ее немного повышая, то, понижая, а на самом деле это оказывается сложнейшим искусством, понимать и оценить которое могут только посвященные.
Но нам в греческих церквах страшно недостает нашего пения; и, слушая их пение (которое нам часто кажется завыванием) с любовью вспоминаешь не только обиход и знаменные распевы, Турчанинова и Кастальского, но и Бортнянского и Чайковского, и даже Веделя. В нашем рвении в пользу «хорошего вкуса» мы часто грешим невольным осуждением русского барокко — как в. пении, так и в архитектуре. Знакомство с греческой церковью заставляет нас пересмотреть наши оценки и сказать: может быть, все эти формы и не соответствуют древним канонам духовной красоты, может быть они «не православные» в смысле их несоответствия восточным или просто древним образцам; но они были, они вдохновляли верующие сердца, они определили собой целую эпоху нашей церкви — и поэтому их тоже надо признать и допустить к дальнейшему существованию там, где они соответствуют душевной потребности (и духовной незрелости) верующих. С этой точки зрения я готов даже допустить «Господи помилуй с птичкой», лишь бы сопрано не было слишком визгливым... Не забудем, что для греческого церковного сознания все наше пение: и обиход и beb-canto — одинаково является революционным модернизмом и западным влиянием; ибо вопрос идет не о мелодии, а о гамме...
Есть еще одна область — совершенно отличная от церковного и богослужебного быта, обращаясь к которой мы начинаем вздыхать о русской жизни. Это — область церковной и в частности религиозно-философской мысли. Греческое Православие в этой области не только консервативно; оно, если можно так выразиться, статично. Этим мы совсем не хотим сказать, что в нем нет жизни; злобные и несправедливые слова Харнака о том, что Православие есть окаменелое христианство, здесь совсем неприменимы. Греческая церковь жива и в благочестии народа и в работе церковной интеллигенции (Зои, Актинес, Апостолики Диакониа) и в ученой работе богословов. Но дерево может расти как вглубь и ввысь, так и вширь; греческое Православие, безусловно, растет вширь и только вширь. В основе его лежит убеждение (или чувство), что в религиозной области все уже дано. Вероучение и мировоззрение разработаны отцами и формулированы соборами: нам остается только изучать, систематизировать, распространять. И вот, живые силы церкви направляются на это изучение, комментирование, проповедь. В этом отношении работа греческой церкви и главным образом ее интеллигенция — замечательна. Но предпосылкой ее является чувство невозмутимого благополучия, вера в то, что наличными формулировками церковной мудрости можно разрешить все проблемы современности, что в области христианской мысли не может быть ни прорывов, ни поражений, одним словом, что «на церковном фронте все спокойно». К анализу этой установки нам еще придется вернуться; сейчас же отметим, что нам, привыкшим к критической мысли Запада, прошедшим через теснины Кантианства и через вдохновения Бергсона, становится в атмосфере этого оптимизма не по себе. И мы с благодарностью вспоминаем о Н. А. Бердяеве, который говорил, что «духовная взволнованность» есть не только основная черта современности, но и главная добродетель христианского мыслителя. То, что Греция не имела своего Федора Бухарева, Гоголя и Достоевского исторически понятно. Но то, что этот пафос тревожного искания — пафос творчества новых форм, которые бы могли быть реальными, а не номинальными ответами на вновь возникающие проблемы — греческому Православию чужд (и может быть даже враждебен) заставляет нас с любовью и вниманием обратиться к собственному прошлому. Как бы мы ни относились к исканиям русской религиозно-философской мысли, мы должны признать, что она вошла в нашу жизнь, как факт церковного значения. А такие образы как о. Павла Флоренского и о. Сергия Булгакова, являются доказательством того, что искания эти не остались безответны, но получили свое частичное разрешение не только в их философских построениях, но и в их лично-церковной судьбе, в которой наука сочеталась с верой, церковность с общественностью, пророчество со священством.
_________
Проблема «эмигрантского православия» была предметом оживленного обсуждения на съездах Русского Студенческого Христианского Движения 1928-1929 годов. Одни полагали, что церковь в эмиграции, предоставленная исключительно самой себе и не связанная никакими государственными обязательствами, пользуется такой свободой, какой она была лишена в течение всего Константиновского периода. И в этом отношении условия эмигрантского существования, несмотря на все связанные с ним экономические и другие трудности, представлялось им для правильной жизни Церкви почти идеальными... Другие, опасаясь эмигрантского самопревозношения, утверждали, что вне родины мы являемся только ничтожным осколком России, не имеющим для судьбы русской церкви никакого значения и что «эмигрантская церковь» является простым «недоразумением». В известной мере эти взгляды существуют и теперь, хотя время значительно смягчило их остроту. Мы стоим сейчас уже не перед проблемой, а перед фактом сорокалетнего существования эмигрантской церкви, принесшей не мало плодов на самых разнообразных полях церковной жизни. Можно преувеличивать и приуменьшать значение нашей церкви, но факт остается фактом: сотни вновь созданных храмов, самоотверженная работа духовенства, десятки, может быть сотни тысяч людей, сохранивших в изгнании свою веру, разнообразнейшие церковные учреждения, часто совершенно нового типа, огромная научная богословская работа, участие в жизни западного христианства — все это уже вошло в историю и не может быть из него вычеркнуто, как бы мы ни оценивали самый факт эмиграции. Не обсуждая этой темы по Существу, мы коснемся ее только с точки зрения тех мыслей, которые возникли у нас в связи с наблюдением условий жизни греческой церкви, которая является в этом отношении прямой противоположностью жизни эмиграции.
В Греции часто приходится слышать жалобы на то, что церковь якобы не свободна, что она находится под влиянием государства, которое использует церковь в своих целях. Я недостаточно знаком с условиями греческой жизни, чтобы высказать по этому вопросу свое мнение; но все же позволю себе поставить вопрос: не является ли государство в данном (как и во многих других случаях) козлом отпущения за собственные грехи? Можно ли говорить об угнетении Церкви при наличии свободы самоопределения последней? Мне думается, что реальная опасность для Церкви от ее связи с государством заключается совсем не в том, что государство якобы угнетает Церковь, которая якобы превращена в часть государственной машины, а в том, что Церковь пользуется рядом предоставленных ей государством благ, от которых не имеет ни сил, ни мужества отказаться. Это касается областей как экономической, так и социально-правовой. До тех пор, пока епископы будут пользоваться привилегиями, присвоенными генералам; до тех пор, пока церковные нужды будут в значительной мере покрываться из государственного бюджета — перед Церковью всегда будет стоять опасность «казенного» «исполнения своих обязанностей», то есть замены христианского служения установленным и утвержденным порядком...
С этой точки зрения эмигрантская церковь должна быть признана совершенно свободной. На нее никто не влияет и никакое государство ей не помогает, и если она продолжает существовать в этой социальной пустоте, то обязана этим вере, любви и жертвенности своих членов, а отнюдь не каким бы то ни было внешне-обязательным постановлениям. Поэтому, свобода нашего существования является для нас постоянно возобновляемым испытанием. На некоторые вопросы этого экзамена мы нашли удовлетворительные ответы и сумели организовать нашу церковь в соответствии и местными правовыми и экономическими условиями, так что она, хотя и с трудом, может существовать. На другие вопросы мы ответов не нашли, запутались в своей свободе, разделились на юрисдикции, ослабили себя внутренней борьбой и если не провалились на этом экзамене, то в значительной степени снизили свою историческую отметку. Эти неудачи заставляют нас признать, что успех в решении церковных проблем зависит не только от свободы, которой надо еще уметь пользоваться, до которой нужно еще дозреть. Поэтому слишком хвалиться свободой нам не приходится... Но в нашем эмигрантском ощущении церкви, действительно, есть нечто, чего мы в греческой церковности не находим. Только это «нечто» очень трудно определить, ибо все основные черты православной жизни свойственны и греческой церкви. Разгадка этого вопроса лежит, как нам кажется, в том, что великая катастрофа революции и последовавшая за ней эмиграция (которая в этом отношении от революции неотделима) вывела церковь за пределы установленного порядка. Это последнее понятие является основоположным для всей социальной феноменологии. К установленному порядку относится все, что принимается общественным сознанием в качестве нормального, само собой разумеющегося, естественного, привычного, и, следовательно, не нуждающегося в оправдании. Таковой была церковь в России, такова она в Греции. Бесчисленными невидимыми корнями сплетается она со всеми факторами социальной жизни: с господствующей моралью, с действующим правопорядком, со всей культурой, обычаями, привычками. Церковь может признаваться наивысшей ценностью — она все же является таковой в системе остальных культурных ценностей; если сравнить ее с куполом храма, то купол этот венчает здание, составляет с ним единое целое...
Революция разрушила это единство, объявив церковь «вне закона». И если период свирепых, гонений заменился режимом условной терпимости (при наличии «гласного и негласного полицейского надзора» за церковью, как за внутренним врагом), то основное «завоевание революции» осталось в силе: церковь стала иноприродной господствующему порядку; принадлежать к церкви значит — с официальной точки зрения — нарушать норму, быть не как все, открыто признать себя «чудаком».
В эмиграции мы пользуемся полной религиозной свободой. Но социальная структура отношений церкви и господствующего порядка остается та же. Она может быть, даже чувствуется острее, потому что церковь в России; в своей борьбе с материализмом, говорит с ним на одном языке. В эмиграции же церковь погружена в установленный порядок, пусть нейтральный, но совершенно и во всем ей чуждый. Она есть инородное тело, не имеющее никаких отношений с окружающей ее социальной стихией; единственная ее связь — по вертикали — с небом. Поэтому самое понятие церкви получает в эмигрантском сознании иной коэффициент (хотя природа ее остается той же). Принадлежать к церкви означает жить как бы двойной жизнью; с одной стороны мы участвуем во французской, немецкой, английской, американской жизни; с другой стороны мое самое интимное и святое принадлежит другой реальности, данной культуре совершенно иноприродной. И чем сильнее моя связь с церковью, тем глубже разрыв с окружающей реальностью, тем острее сознание временности и относительности всех земных связей.
Все эти чувства остаются обычно в подсознании; но они окрашивают собою наше восприятие церкви и объясняют то различие, которое существует между церковью в эмиграции и церковью в стране, не имевшей опыта революционного изгнания церкви из сферы установленного господствующего порядка. Не следует преувеличивать и переоценивать этого эмигрантского восприятия церкви; но закрывать на него глаза означало бы не принимать той духовной задачи и того духовного испытания, которое послано нам самым фактом нашего эмигрантского бытия. Ибо эмиграция может восприниматься только, как необходимость жить вне родины; но ее можно осознать как жизнь людей «не имущих своего града, но грядущего града взыскующих». Подобно этому и наши эмигрантские храмы с их самодельными иконами и любительскими хорами могут быть воспринимаемы только как церковная убогость; и они же могут сиять для нас огнями «нового Иерусалима, сходящего от Бога с неба... и не имеющего нужды ни в солнце, ни в луне для освещения, ибо слава Божия освещает его и светильник его Агнец» (Откр. 21; 22, 23). Эту возможность сублимации нашей церковной судьбы надо осознать и принять; и этому нас тоже учит встреча с греческой церковью, чуждой этой трагической проблематики.
В нашей церковной жизни есть одна область, в которой свобода от внешних влияний дала богатые плоды; это область религиозной мысли и богословских исследований. В этом отношении в эмиграции сделано очень много. Мы имеем при этом в виду не только научное богословие, но и религиозную философию, церковную публицистику, педагогику и т. п. По поводу этого о. Сергий Булгаков писал (в 1935 г.) следующее*): «Есть одно условие, при котором лишь возможно богословское творчество, это — свобода искания, без которой утрачиваются искренность и воодушевление. При всех своих достоинствах и достижениях, прежняя духовная школа не имела этого блага в такой мере, как мы... Нам же было оказано доверие, и смеем сказать, мы его оправдали и оправдываем. Ибо (о. С. Булгаков имеет здесь в виду профессоров Богословского Института) наша свобода есть церковная свобода верных и любящих сынов Церкви, а не взбунтовавшихся рабов. Мы хотим свободной преданности Церкви — верности ее преданию, но верности творческой».
*) При реке Ховаре. Путь, 1935. № 47.
Этим духом свободы и ответственности проникнуто почти все религиозное творчество эмигрантских мыслителей. Своеобразным манифестом этой установки явился сборник «Живое Предание» (1936 г.), носящий Подзаголовок «Православие в современности». В предисловии к нему мы читаем: «Быть верным Преданию значит жить в Церкви. Поэтому для каждого христианина — для богослова и не богослова одинаково — имеет силу самоочевидности заповедь, выраженная апостолом: «Итак, братия, стойте и держите предание» (2 Фес. 2, 15). Но в исполнении этой заповеди перед каждым отдельным христианином, как и перед всякой исторической эпохой, возникает вопрос, что для них значит держать предание и как его держать? Руководящая мысль для ответа на этот вопрос дана в других словах того же апостола: Бог «дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква мертвит, дух животворит» (2 Кор. 3, 6). «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода» 1(там же)... Охранительство в богословии, притязающее наблюдение depositum fidei в неизменности, на самом деле является не консерватизмом, но чрезвычайно активным движением, однако, не вместе со временем, но против него. Оно не замечает, что каждая эпоха имеет свой собственный стиль и потому для каждой эпохи является неизбежной самостоятельная транспозиция или перевод на свой язык, активное держание предания. И поэтому стремление к хранению истины в гробе с кустодиею является «суетным и ложным» и, самое главное, не является вовсе хранением, но умерщвлением предания... Предание раскрывается в истории, оно как бы переводится на язык разных ее эпох, а каждая из них, приемлющая его активно, хранит его творчески, ибо предание есть столько же факт, сколько и акт, столько же статика, сколько и динамика... Предание не только хранится, но и творится, ибо живет. Каждая эпоха имеет свой характер, будучи поставлена перед своими нуждами, и в своей особой проблематике таит свое собственное постижение откровения, ищет для него церковного осознания и оправдания, в такой же мере, как и осуждения, ибо христианскому сознанию свойственно не просто склоняться пред фактом, но вопрошать об его смысле и ценности, искать правого жизненного пути. И в смелости и искренности богословской мысли, которая ищет этого правого пути при свете веры, проявляется свобода, творческая верность преданию».
В этих словах заключена не только программа, но целое миросозерцание. Большая часть богословского и религиозно-философского творчества эмиграции проникнуто этим пафосом. Встреча с религиозной греческой мыслью, носящей иной характер, заставляет внимательнее продумать и глубже оценить эту установку, ибо с ней, безусловно, связано будущее Православия.
____________
Проблема секуляризма, который обычно выступает под знаком культуры, очень сложна; с одной стороны он, бесспорно, обладает огромной притягательной силой и покоряет сердца и сознание; а с другой стороны те формы, в которых он нам предстоит, ни в коем случае, не могут объяснить ни его притягательности, ни его силы. Совершенно очевидно, что материализм привлекает к себе совсем не своим содержанием (кого может в самом деле пленить образ бессмысленно сталкивающихся и отталкивающихся материальных частиц), а идеалом бесспорной и окончательной научности, которая якобы за ним стоит; совершенно очевидно, что увлечение социализмом имеет в виду совсем не «равенство всеобщей сытости», а некий идеальный образ общественного порядка; хорошо это выразил А. Блок, говоря о последних целях революции: «что же задумано? Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью».
Еще сложнее обстоит дело с верой в прогресс, которая по своей идее обращена не к какому-либо конкретному образу, а к вечному движению, к постоянному достижению все новых и все более совершенных форм; но на практике это стремление обычно обращено именно на какой-либо конкретный образ и соединено со слепой уверенностью, что с достижением его «все станет иным».
Вдумываясь в духовную структуру всех этих увлечений, мы приходим к выводу, что все известные нам формы того, что мы глобально называем секуляризмом суть псевдонимы и псевдоморфозы чего-то иного — более глубокого и более значительного. Ибо в противном случае сердца и совесть людей не отдавались бы так жертвенно и безраздельно таким идеям, которые сами по себе не имеют в себе ничего привлекательного («мы произошли от обезьяны, следовательно, должны любить друг друга», шутил по этому поводу Вл. Соловьев).
Что же стоит за всеми этими увлечениями западной культурой, частью которой является и секуляризм? Чем в истории русской мысли пленялись Карамзин, Чаадаев, Тютчев, Достоевский, Ал. Толстой, Вл. Соловьев? К чему стремились великие реформаторы русской жизни, будь то Петр Великий, сотрудники Александра II или Столыпин? Запад, Европа, всегда имели для Востока непреодолимую притягательность; даже отрицая и борясь с западной культурой, восточные люди внутренне пленялись ею, и Хомяков пел Европу как «страну святых чудес». Но это отношение было амбивалентным: что-то пленяло и что-то отталкивало; чему-то надо было учиться и подражать, и с чем-то надо было бороться. И эта трудность стоит перед нами сейчас с такой же, а может быть с еще большей остротой, как и перед предшествующими поколениями. Нам хотелось бы первым долгом выделить и понять то положительное начало западной культуры, которое нас к себе так привлекает. Ибо и теперь — после Герцена и Леонтьева, после «Гибели Запада» Шпенглера и «Крушения кумиров» Франка, после Ницше и Рильке, Рэмбо и Гогена — несмотря «а «кризис культуры» и на утерю веры в прогресс — мы чувствуем, что бесповоротно принадлежим этому миру, который можем критиковать, осуждать, даже проклинать, но без которого не можем жить. Это понял Федор Бухарев, написавший еще в 1860 г. «О Православии в отношении к современности». И это с полной силой пережил о. Сергий Булгаков, писавший (в Предисловии к Свету Невечернему) «труден путь от современности к Православию и обратно». Эти его слова заключают в себе целую программу, целое мировоззрение.
Западная культура не может быть определена по своему содержанию, потому что в нее входит необозримое множество идей, движений, организаций часто противоречащих друг другу и находящихся в состоянии непримиримой взаимной борьбы. Но все же во всем этом многообразии есть нечто общее и именно оно нас привлекает.
Современная педагогика открыла нам «закон активности», согласно которому человека интересует только то, в чем он принимает личное живое участие. До тех пор, пока мое «я» не вовлечено в какой бы то ни было процесс, оно остается к нему пассивным, безразличным, равнодушным. Но как только «я» захвачено и активно, весь мир становится для него иным: близким, живым, интересным (не это ля имел в виду Н. Ф. Федоров, когда говорил, что мир нам дан не для «посмотрения»). Это относится буквально ко всем областям жизни человека, который живет только тем, в чем принимает участие. А с другой стороны все в мире — по отношению к человеку — может рассматриваться или как данное, законченное и готовое, или как заданное, становящееся, возникающее (lе. tout fait и le se faisant Бергсона). Первое он должен принимать таким, каково оно есть, и ему с ним нечего делать; в жизни становящегося он может принимать участие, может стать живым и действенным фактором его возникновения и роста. То, что по нашему убеждению характеризует западного человека и что привлекает нас к нему, является именно его отношение ко всему миру, как живой, становящейся, возникающей реальности, в жизни которой он может и должен принимать участие. Это относится ко всему: к природе, к общественному строю, к науке и — что для нас важнее всего — к религии. Весь мир (включая нас самих) является задачей, материалом, глыбой мрамора, из которой мы должны высвободить прекрасный образ. Но никакое достижение, никакое совершенство не может быть закреплено в нашем сознании как вечный образец для подражания.
«Стремится все, в божественной отваге, себя перерасти» (Вл. Соловьев).
Этому духу вечной активности, этому чувству несытости и неудовлетворенности данным, обязан Запад и своей техникой и своими завоеваниями и революциями, реформацией и католическим ренессансом, своей философией, наукой и искусством — вообще всей своей богатой, противоречивой и трагической историей. И этот дух привлекает к нему и нас. Мысли эти не новы; но они переживаются нами с особой силой, когда мы ближе знакомимся с греческой жизнью. Ибо мы видим в ней с одной стороны победоносное наступление стихии Запада, во всех областях общественной и культурной жизни, а с другой стороны встречаемся с неподготовленностью Православия к встрече с этим миром и к борьбе с ним, поскольку он является враждебным вере и Церкви. Греческая церковь не составляет в данном отношении исключения; но ее пример является типичным как в качестве национальной церкви большого народа, живущего в условиях политической свободы, так и в отношении к ее прошлому, превосходящему своею древностью и богатством все остальные православные церкви. Ее неподготовленность к борьбе может быть рассматриваема с разных точек зрения. Самой большой опасностью является в этом отношении та волевая установка, которую можно назвать политикой страуса: за невозможностью избежать опасности и уйти от нее в пустыню — зарыть свою голову в песок; объявить опасность несуществующей и думать, что если ее не видеть, то ее и на самом деле нет. Фактически это означает молчаливую сдачу позиций — лишь бы об этом не говорилось слишком громко. Подобное явление мы, однако, наблюдаем в жизни греческой церкви. Враг стоит у дверей: государство, общество, наука, искусство, педагогика — все это носит здесь весьма светский характер (церковной является только вывеска, да и то не всегда). Молодежь увлечена западной цивилизацией, но усваивает, в большинстве случаев, только внешние ее достижения, и не видит той сущности, которая составляет трагическую ценность Запада*).
*) Здесь уместно вспомнить слова Тютчева о подобном явлении в России. О поверхностных русских западниках он говорит:
"Цивилизация для них фетиш,
Но недоступна им ее идея".
Пред лицом этой массовой секуляризации греческое Православие оказывается совершенно беспомощным. Оно просто не знает, как с нею бороться. В былые времена (и в других православных странах) церковь в трудных случаях взывала к государству; но теперь эта практика потеряла свою надежность: само государство становится все более светским и не церковным. Мы уже говорили выше о невозмутимом оптимизме большинства представителей греческой церкви; но есть немногие, которые видят опасность, но не видят возможности с нею бороться: «мы скорыми шагами идем к полной катастрофе», говорят они. Но Запад наступает на Православие не только под знаком секуляризма, безбожия и равнодушия к религии. Католическая и протестантская пропаганда, которая на Востоке достигает огромных размеров и приносит страшный вред православной церкви, выступает так же под видом культурной работы. Школы, пансионы для молодежи, госпитали, центры социальной помощи, целые университеты (как напр., в Сирии), все это несет с собой под видом культуры широко поставленный прозелитизм. А Православие, которое потенциально обладает большими культурными возможностями, чем Запад, но не умеет их оживить и реализовать, неизменно сдает свои позиции и только стонет от ударов, наносимых лучше вооруженным врагом. А с другой стороны мы видим множество греческой молодежи, учащейся в Европе: в богословских факультетах Германии, в католических университетах Франции и Бельгии, в Англии и в Америке — повсюду мы встречаем греческих богословов, трудолюбиво усваивающих западную науку. Но тут-то и уместно поставить основной вопрос: чего ищут они на Западе? чему они у Запада учатся? Тому ли — самому главному и ценному, — что привлекает к западной культуре восточного человека, — или же той технике, тому уменью обращаться с фактами и мыслями, которые характерны для западной цивилизации? Или — формулируя вопрос иначе: ищут ли они синтеза положительных элементов Запада и Востока, или же стремятся овладеть достижениями Запада, чтобы внешне использовать их на своем духовном Востоке? Мы только ставим этот принципиальный вопрос, но не чувствуем себя вправе дать на него ответ; тем более, что единообразный ответ для всех случаев и невозможен. Но тот статический характер греческого православия, о котором мы писали выше, говорит скорее в пользу того, что, принимая западную технику и западные методы, греческая церковь остается чуждой тому, что составляет душу (и силу!) Запада: его отношению к самому себе как к чему-то становящемуся, его сознательно критическому отношению ко всем процессами жизни, его динамическому характеру, влекущему его всё к новым опытам и достижениям. Речь здесь идет, конечно, не о консерватизме и либерализме, а о внутреннем ощущении того, что есть история — и в частности, история церкви: хранение идеального образа или жизнь развивающегося организма (тела Христова).
Сказанного достаточно, чтобы ясно осознать ту опасность, перед которой стоит весь православный мир. Опасность эту можно замалчивать до тех пор, пока верующие массы благочестивого народа хранят древнее благочестие как часть своей органической жизни и своего традиционного быта. Но массы в отношении интеллигенции обычно запаздывают только на 50-70 лет. А церковную жизнь надо мыслить и считать столетиями. Опасность, которая сейчас чувствуется только в городах, может через полвека охватить пожаром весь православный народ; необходимо уже теперь думать о том, чтобы иметь наготове ответы, которые можно было бы противопоставить вновь возникающим вопросам. Мы, конечно, имеем в виду не только богословскую мысль, но и христианскую жизнь. Священники-рабочие, маленькие братья и сестры о. Фуко, о. Пьер, о.о. Джелико и Гроссер, Д. Маклауд, Блюмхарды являются такими же, может быть, более действенными ответами христианства на вопрошание секуляризованных масс, чем писания Мунье, Темпля или Нибура. Но, «вера... от слышания» необходимо, поэтому и то и другое...
Выводы напрашиваются сами собой: нам необходимы союзники. Мы слишком слабо вооружены, чтобы вести борьбу, полагаясь только на свои силы. Поэтому нам необходима помощь тех, кто уже закалены в борьбе долгим опытом, а главное ищет того же, что мы, стремится к одной с нами цели. Учиться технике можно, конечно, и у врагов и у безразличных специалистов; но духовная борьба — не техника. И нам нужны не поставщики, не эксперты и даже не благодетели, а союзники и друзья, которые делают то же дело, что и мы, с которыми мы объединены духовно. Отсюда следует необходимость сближения с теми силами христианского Запада, которые сознают ценность Православия и ищут сотрудничества с ним, как с таковым, без желания перекроить его на свой лад. А затем — необходимо более внимательное отношение и помощь тем редким росткам Православия, которые в наше время стали прорастать на Западе*). Несмотря на свою слабость, неорганизованность и малочисленность, представители Западного Православия могут сыграть в этой борьбе большую роль. Проблематика западной культуры является для них их собственной жизнью, кризис этой культуры — их собственной духовной катастрофой. Поэтому проблема синтеза или оплодотворения западной души ценностями восточного христианства, есть для них задача их собственного духовного бытия, их духовное «быть или не быть». Для борьбы с секуляризмом, для преодоления того, что в западной культуре ядовито и смертоносно они и вооружены лучше нас и острее чувствуют трагическую необходимость этой борьбы. Но для того, чтобы они могли раскрыть все свои возможности, их надо принять в серьез и не считать их детьми, которых надо учить часослову, а взрослыми и полноправными членами Церкви, может быть хуже нас знающими церковный строй и быт, но зато обладающими такими дарами, которых мы естественно лишены.
Таковы выводы, к которым приводит нас встреча с греческой церковью. Ее нельзя не любить, но за ее будущее (говорим по человечеству) нельзя не бояться. И первое, и главное, что вытекает из всех этих соображений, чувств, очарований и разочарований является сознание необходимости взаимного сближения на почве общей любви и верности вечной святыне Православия.
Л.Зандер.
*) См. об этом мою работу "Западное Православие".
материал предоставлен Хилдо Бос, "Syndesmos"
|